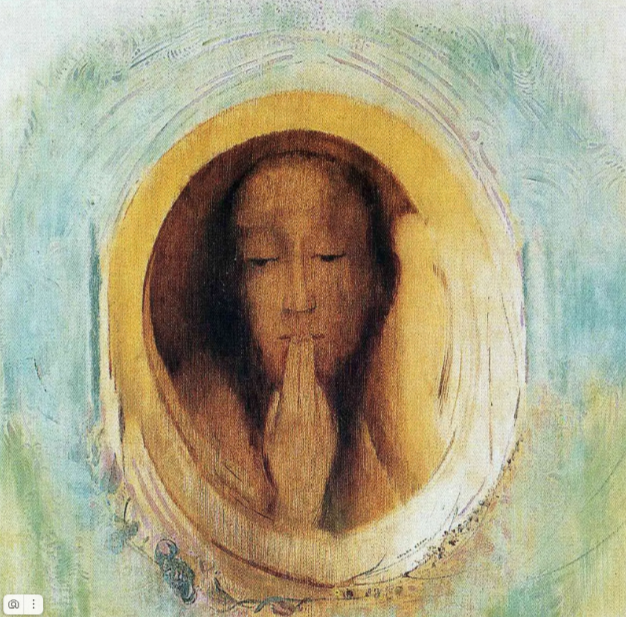Silentium!
«Siléntium!» («Молчи́, скрыва́йся и таи…») — стихотворение русского поэта Фёдора Тютчева, написанное в 1830 году.
История[править]
Создание и публикация[править]
Стихотворение было написано в Германии не позднее 1830 года[1].
Впервые оно было опубликовано 16 марта 1833 года в 32 номере газеты «Молва» (стр. 125)[2].
В 1836 году в пушкинском «Современнике» оно вышло в новой редакции, соответствующей (за исключением допущенной в «Современнике» опечатки) сохранившемуся чистовому автографу произведения[2].
В подготовленном Иваном Тургеневым издании 1854, а затем и в изданиях 1868, 1886, 1900 годов текст стихотворения был исправлен, приведён к стандартному размеру и ударениям, без вольных перебоев ритма, с исправлением авторской пунктуации, что лишало стихотворение особой тютчевской выразительности. По предположению критика Георгия Чулкова, исправления в редакцию 1854 года были внесены Тургеневым, поскольку он и ранее как редактор вносил исправления в авторские тексты. С другой стороны, известно, что Тютчев мало интересовался изданием своих произведений в принципе, а в тот период ему было не до стихов: его волновала судьба России и вероятная близость войны[2][1].
Отзывы современников[править]
Николай Некрасов относил стихотворение к тем тютчевским произведениям, в которых «преобладает мысль».
Рецензент журнала «Библиотека для чтения» выделил стихотворение как одно из лучших в издании 1854 года и заметил, что его достоинство — не в новизне выраженной в нём мысли, а в том, что поэт нашёл для мысли, которая посещает всех, «самое верное, самое короткое и самое красивое выражение».
Иван Аксаков писал, что стихотворение выражает неспособность поэта «передать точными словами, логическою формулою речи, внутреннюю жизнь души в её полноте и правде».
Лев Толстой высоко оценил это произведение и отметил в сборнике буквой Г, что означало «Глубина». Герой романа «Анна Каренина» Константин Левин в первоначальных редакциях цитировал стихотворение, говоря о своём брате, в окончательной же редакции идея стихотворения отражена в его образе. Включив «Silentium!» в «Круг чтения», Толстой сопроводил его философско-религиозным комментарием[1].
Художественные особенности[править]
Смысл названия и основная идея[править]
Называние на латыни, которое переводится как «молчание» или «безмолвие», получило множество трактовок на уровне ассоциаций (с медицинской латынью, средневековыми трактатами, восклицанием школьного учителя «Тишина!», античной традицией риторики, мёртвым языком, указывающим на вакуум в коммуникации, и пр.)[3]. В латинско-русском словаре отмечается два ряда значений этого слова: «безмолвие, молчание, держание в тайне, умолчание, неразглашение» и «тишина, покой, спокойствие»[4]. Наталья Атаманова понимает его в контексте стихотворения как умолчание, отказ от высказывания, причём отмечает, как меняется смысл этого понятия от строфы к строфе. Так, в первой строфе безмолвие — это постижение себя и мира, невыразимое в слове. Во второй строфе говорится о молчании во взаимодействии с внешним миром, с другими людьми. Источником (ключом) жизни души становится соединение внутреннего безмолвия с молчанием во внешне мире. В третьей строфе молчание порождает «таинственно-волшебные думы» в душе героя. В конце концов безмолвие сопоставляется с невыразимой тайной мира, о которой нужно молчать[5]. По словам Анны Журавлёвой, «…стихи оказываются не столько о молчании, сколько об умолчании, когда есть о чём умалчивать»[6].
Наум Берковский назвал стихотворение «жалобой по поводу той замкнутости, безвыходности, в которой пребывает наша душа»[7].
Система образов[править]
Исследователь Анна Калашникова отмечает, что Тютчев, следуя традиции романтизма, создаёт в этом стихотворении образ души как микрокосма, противопоставляя внутренний мир внешнему как основной, доминирующий. О мире души поэт сообщает немного: он имеет некую «глубину», где чувства и мечты возникают и исчезают, подобно звёздам; в нём скрыты «ключи»; это «целый мир… таинственно-волшебных дум». Грандиозный образ души создаётся скупыми поэтическими средствами, но главным образом — противопоставлением поэтического высказывания и идеи молчания. Само воплощение идеи молчания в слове парадоксально[3].
Душа предстаёт в стихотворении как средоточие разных сил, единая по природе, но неисчерпаемая и непознаваемая. Внутренние переживания, жизнь души предстают в образе «подземного ключа»[8]:
- Взрывая, возмутишь ключи,
- Питайся ими — и молчи…
Поэт ищет ответы на основополагающие вопросы бытия во внутреннем мире, а не в равнодушной природе. «Наружный шум» и свет «дневных лучей» — это порождение «дневного» мира. Поэтому лирический герой направляет всё внимание внутрь себя и отрекается не только от разговоров с людьми, но и от созерцания внешнего мира природы. Мир души противопоставляется не только социуму, но и природе[9]:
- Лишь жить в себе самом умей —
- Есть целый мир в душе твоей
- Таинственно-волшебных дум —
- Их оглушит наружный шум,
- Дневные разгонят лучи —
- Внимай их пенью — и молчи!..
Особенности композиции[править]
Слово «молчи» повторяется в стихотворении четыре раза. С призыва к молчанию стихотворение начинается («Молчи, скрывайся и таи…»). Это же слово завершает каждую строфу, тем самым формально и содержательно ограничивая словесную массу. Призыв «молчи» создаёт композиционное кольцо, которое усиливается лексическим повтором (эпифорой). Кольцевую композицию имеет и первая строфа, и всё стихотворение. Заглавие «Silentium!» Калашникова также называет элементом композиции, который надстраивает над текстом «дополнительную „ступень безмолвия“». Таким образом, молчание в стихотворении становится доминантой и подчиняет себе слово[3].
Трактовки стихотворного метра[править]
Стихотворение написано четырёхстопным ямбом с пиррихиями. Однако в трёх стихах («Встают и заходят оне / Безмолвно как звезды в ночи…» и «Дневные разгонят лучи…») при традиционной постановке ударений в словах размер меняется. Это порождает три интерпретации:
- Тютчев, оставаясь в рамках четырёхстопного ямба, использует старинные ударения: заходя́т, звезды́, разгоня́т. Такой концепции придерживаются Вера Аношкина (Касаткина) и Анна Калашникова.
- В указанных стихах ямб меняется на амфибрахий (Борис Бухштаб, Анна Журавлёва).
- Ямб переходит а трёхиктный дольник (Фёдор Фёдоров)[3].
Примечания[править]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 В. Н. Касаткина. Комментарии. Silentium! // Ф. И. Тютчев. Полное собрание сочинений и письма в шести томах / РАН, Институт мировой литературы им. М. Горького, Институт русской литературы (Пушкинский Дом). — М.: Издательский Центр «Классика», 2002. — Т. 1. — С. 380—385. — ISBN 5-7735-0129-5.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Чулков, 1923
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Калашникова, 2012
- ↑ Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь: ок. 200 000 слов и словосочетаний. — 6-е изд.. — М.: Русский язык, 2000. — С. 709. — 843 с.
- ↑ Атаманова, 2023
- ↑ Журавлёва А. И. Стихотворение Тютчева «Silentium!» (К проблеме «Тютчев и Пушкин») // Замысел, труд, воплощение. — М.: Изд-во МГУ, 1977. — С. 179—190.
- ↑ Берковский, 1987
- ↑ Видющенко С. И. Мифологема «живой» и «мертвой» воды в Книге Бытия и в лирике Ф.И. Тютчева // Ф. И. Тютчев и тютчеведение в начале третьего тысячелетия : материалы IV-ой науч.-практ. конф. : 19 ноября 2013 г. / Брян. обл. науч., универс, б-ка им. Ф. И. Тютчева. — Брянск. — 2018. — С. 251—252.
- ↑ Гатауллина, 2021
Литература[править]
- Атаманова Н. В. Ф. И. Тютчев как поэтическая языковая личность: от истории к современности (к 220-летию со дня рождения). — Брянск: Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского, 2023. — 188 с. — ISBN 978-5-605-11560-1.
- Берковский Н. Я. Ф. И. Тютчев: Вступительная статья // Ф. И. Тютчев. Полное собрание стихотворений. — Л.: Советский писатель, 1987. — С. 5—41. — (Библиотека поэта; Большая серия).
- Воробец Т. А. Трансформации «Звучащего слова» в поэтическом космосе Ф. И. Тютчева // ОНВ. — 2006. — № 4 (38).
- Гатауллина Д. Н. Безличная природа и бездна человеческой души в философской лирике Ф. И.Тютчева // Учёные записки НовГУ. — 2021. — № 2 (35).
- Калашникова А. Л. «Душевный микрокосм» в художественном мире Ф. И. Тютчева: «Silentium!» и «Душа моя, Элизиум теней…» // СибСкрипт. — 2012. — № 1.
- Пигарёв К. В. Жизнь и творчество Тютчева. — М.: Издательство АН СССР, 1962. — 376 с.
- Чулков Г. Судьба рукописей Тютчева // Тютчевский сборник (1873―1923). — Петроград: Изд-во «Былое», 1923. — С. 54―58.
Ссылки[править]
- Текст стихотворения на портале Культура.РФ
Шаблон:Стихотворения Фёдора Тютчева
Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Silentium!», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |