Вклад Н. Г. Курганова в синтаксис русского языка
Вклад Н. Г. Курганова в синтаксис как науку связан с публикацией в 1769 году «Письмовника».
Грамматика Курганова[править]
Издание «Российской грамматики» М. В. Ломоносова вызвало работу над учебными грамматическими руководствами по русскому языку. Так, появились «Письмовник» (1769) профессора Курганова, «Краткие правила российской грамматики» А. А. Барсова (1771), «Краткая российская грамматика» Е. Б. Сырейщикова (1787), «Начальные основания российской грамматики» П. И. Соколова (1788), «Краткие правила ко изучению языка российского» В. П. Светова (1790) и другие. В большинстве этих грамматик раздел синтаксиса краток, обычно занимает несколько страниц. Только в «Начальных основаниях российской грамматики» Соколова вопросы синтаксиса излагаются сложнее и подробнее, хотя здесь в основном всё ограничивается правилами согласования и управления слов. Синтаксиса предложений и членов предложений в этих грамматических руководствах нет[1]. Среди грамматических руководств второй половины XVIII века, которые возникли под влиянием «Российской грамматики» и во многом дополняли её инвентарь новыми синтаксическими правилами, отдельно говорят о грамматике, которая открывала собой «Письмовник» Курганова[2].
Грамматика Курганова не ставила нормативных задач. Как следствие, она отражает многообразие речевого употребления разных общественных групп, преимущественно среднего сословия 1760—1780-х годов. У Курганова отсутствует систематизация и филологическая точность определений. В его грамматике, с одной стороны, много архаического (например, рассуждение о двойственном числе), а с другой — очень много эмпирических наблюдений из сферы разговорного языка. Учёный широко и свободно использует в качестве примеров народные присловия, поговорки, фразы бытового просторочия, иногда с вульгарным колоритом. Во всем остальном Курганов следует «Российской грамматике», дополняя её разными материалами и собственными наблюдениями[3].
Грамматика Курганова интересна, с одной стороны, тем, что, опираясь в основном на «Российскую грамматику» Ломоносова, она стремится пополнить её как живым материалом конструкций разговорной речи, так и отдельными фактами архаического синтаксиса, взятыми из грамматики Смотрицкого. Материал, не всегда достаточно систематизированный и грамматически обобщённый, все же несколько расширял рамки и содержание грамматики Ломоносова, но иногда в сторону той грамматической традиции, от которой отталкивался сам Ломоносов. В частности Кургановым было освежено и исправлено освещение вопроса о зависимости форм сочетаемости у отдельных разрядов слов, которые принадлежат к разным частям речи, от соотношения и взаимодействия разных семантических групп слов внутри лексико-семантической системы определёного языка. В изложении данных вопросов и правил Курганов стремится расширить и подправить грамматику Смотрицкого. С другой стороны, Курганов предпринял шаги для сближения грамматики с логическим и риторическим учением о предложении и периоде. Синтаксис Курганова отчётливо и резко распался на две главы: «О сложении частей речи» (то есть о формах и типах словосочетаний и о правилах их образования) и «О сложении речей» (то есть предложений). Здесь ещё отсутствует проблема разграничения типов простых и сложных предложений. Нет также ясности в соотношении учения о словосочетании и учения о предложении[4].
Вопросы синтаксиса[править]
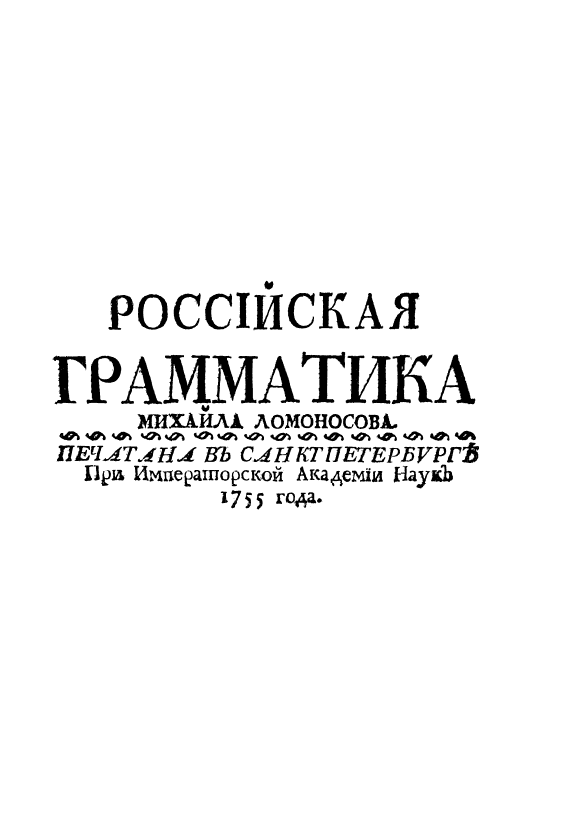
Курганов внимательно наблюдал за разными явлениями, в том числе и синтаксическими, современной ему литературной и народно-разговорной речью и при этом изучал новые и старые грамматические труды. Цель описания «сочинения слов и речи» он понимал как составление свода синтаксических правил, которые будут обогащены новыми наблюдениями и новыми иллюстрациями из практики разговорной речи и из сочинений письменно-литературных. Поэтому Курганов, положив в основу своей работы «Российскую грамматику», стремился пополнить её старыми, опущенными Ломоносовым правилами из грамматик Смотрицкого, Ф. Максимова, В. Адодурова, но прежде всего — собственными наблюдениями и иллюстрациями. В результате была создана своеобразная коллекция синтаксических правил и синтаксических фактов, которая была лишена ясности и теоретической глубины труда Ломоносова, но которая пробуждала новые мысли и направляла к поискам новых, более точных закономерностей развития языка[5].
Словосочетание[править]
В грамматике Курганова на основе материала грамматик Смотрицкого и Максимова восстановлены соответствующие правила и конкретные группы словосочетаний, которые не нашли синтаксической характеристики у Ломоносова. Например, говоря о сочетании родительного с именами, Курганов пишет: «Прилагательные, незнание, страсть, изобилие, скудость или недостаток, желание, требование, достоинство и проч. знаменующие, принимают родител. падеж: незнающий логики; боящийся бури; исполнен славы и чести; лишён всякой добродетели; достоин награждения; искусен наук или в науках; требующий милосердия и пр.». Здесь к числу прилагательных отнесены и причастия. Если сравнить это правило с соответствующими правилами грамматик Смотрицкого и Максимова, у Курганова можно обнаружить расширение и уточнение формулировки в её лексико-семантической части. В грамматике Смотрицкого отмечены лишь «прилагательные, обилие, нищету, требование, желание, достоинство знаменующие». В грамматике Максимова — та же формулировка с заменой слова «нищета» словом «скудость». В формулу Курганова вошли указания на «незнание, страсть», «скудость или недостаток», иллюстративные примеры у Курганова являются новыми[6].
Говоря о сочетании дательного с именами, Курганов выделяет группу «прилагательных, подобие, пользу, вину, удобность, благость, искренность, равенство, верность, разумение и сим противознаменающих», которые «требуют дательного»: подобен отцу; многим полезен; повинен смерти; верен и любезен царю; научен закону, логике и проч. Здесь Курганов воспроизводит правило из грамматики Смотрицкого с отдельными заменами (например, вместо «удобие» — «удобность»); кроме того, выпущено слово «утешение». Примеры выбраны в меньшем количестве[6].
Среди именных словосочетаний с творительным Курганов особо характеризует группу «прилагательных изобилие, скудность, славу, бесславие значащих: одарён умом; богат достоянием, деньгами, деревнями; высок честию; велик властию; чист душею; скуден умом; кроток нравом и пр. Сюда надлежит ещё: проворен, крепок, молод, стар, болен, отягчён, награждён и проч.». Здесь вновь воспроизведено правило грамматики Смотрицкого, опущенное Ломоносовым, хотя в это правило вновь внесены поправки: исключены значения — качество и количество, отмеченные Смотрицким; вместо «обилие» — «изобилие»[6].
Вследствие беспорядочного смешения разных синтаксических явлений и туманности описания, которая отражает неточность формулировки соответствующего положения в грамматике Смотрицкого, представляет меньше интереса такое синтаксическое правило в главе «О творительном со именем»: «Прилагательное с творит. существительных, род, качества, отечества или всего некоторую часть знаменующих, сочиняются: знатен породою; ты мною почтён, он именем Феодул, родом камчадал, отечеством прусак; лицом чёрен, велик ростом, голосом варвар, слывёт добрым человеком». К прилагательным здесь отнесены: Феодул, камчадал, прусак и варвар. В один ряд поставлены такие различные конструкции, как велик ростом и слывёт добрым человеком. Но так или иначе Курганов стремится вслед за Смотрицким определить и дифференцировать правила синтаксической сочетаемости прилагательных в зависимости от принадлежности их к разным семантическим группам или системам. Курганов старается понять, расчленить и уточнить те правила сочинения прилагательных, от определения которых вынужден был отказаться Ломоносов (ввиду недостатка материала и наблюдений), который писал: «Прилагательных имён падежи, с коими они сочиняются, общим правилам не подвержены ради разных их знаменований, что должно знать из употребления»[7]. Это ломоносовское правило почти в той же редакции применяется Кургановым к «сочинениям прилагательных имён с предлогами» — к более узкой сфере словосочетаний[6].
Значительные дополнения к теории Ломоносова о сочинении слов сделаны Кургановым в разделе «сочинения глаголов». Заметна тенденция расширить и уточнить ломоносовские определения некоторых форм словосочетаний, которая не всегда приводила к положительным и вполне оправданным с исторической точки зрения результатам. Так, об общих глаголах в «Российской грамматике» сказано: «Общих глаголов российский язык невеликое число имеет: касаюсь, кланяюсь, стараюсь, тщусь, молюсь и проч.; сочиняются по большей части с дательным»[8]. В «Письмовнике» о глаголах общих сначала говорится так же, как и в «Российской грамматике» (хотя и с некоторыми изменениями в сторону разговорной речи), но тут же есть новое синтаксическое правило: «Общих глаголов в Российском языке немного, как качаюсь, кланяюсь, стараюсь, тщусь, молюсь и пр. которые сочиняются больше с дательным и с предложным падежем; качаюсь на стуле; кланяюсь, молюсь Богу; стараюсь о общем добре»[6].
Характер синтаксических дополнений и уточнений, предлагаемых грамматикой Курганова, очень ясно выступает при сопоставлении правил, содержащихся в грамматиках Ломоносова и Курганова относительно безличных глаголов. В «Российской грамматике»: «Безличные российские глаголы почти все от личных заемлются, как: случается, приключается, надлежит от случаюсь, приключаюсь, надлежу, кроме одного почти пристоит. Сочиняются с неокончательным: случается натти петуху жемчужину; надлежит презирать с терпением противности»[9]. В «Письмовнике» — более распространённое и оснащённое большим количеством примеров, хотя и не всегда удачных, следующее синтаксическое правило: «Безличные глаголы почти все от личных заемлются, кроме: обстоит, пристоит, дождит, снежит или дождь, снег идёт, и сочиняются с неокончательным, принимая разные падежи: случается итти полем; случалося ей поздно вечером итти, надлежит презирать терпеливо противности; строится двор; его следует наградить; имеется быть принято; сказывают или говорят — он уехал. И особно: есть уже с час, как я здесь; у него довольно было денег; есть время или время уже ехать; есть люди подобные зверям и пр.»[6].
Так же, как и по отношению к классу имён, Курганов вслед за Смотрицким и Максимовым стремится в кругу глаголов выделить семантические группы слов, которые характеризуются специфическими качествами сочетаемости с разными падежами существительных. И здесь в основном (с некоторыми опущениями, уточнениями и исправлениями) воспроизводятся правила из грамматики Смотрицкого. Например: «Глаголы послушания, ослушания, поношения, желания, чаяния, требования, прошения, изобилия, лишения, искания н пр. и сим отрицательные принимают родительный: слушай старших тебя; не ищи мудрости, ищи кротости и воздержания»[6].
Курганову не удаётся установить внутреннее семантическое единство различных групп слов, найти их смысловое ядро. Он так же, как Смотрицкий и вслед за ним и Максимов, характеризует состав семантичсской группы путём перечисления индивидуально-конкретных значений отдельных слов, в неё входящих. Тем самым в этой сфере синтаксических правил Курганов не уловил основного замысла «Российской грамматики»[6].
Отдельно Курганов излагает учение о синтаксических фигурах (образный синтаксис), пользуясь материалами грамматической традиции (прежде всего грамматикой Смотрицкого). Здесь также наблюдается типичное для стиля Курганова приспособление архаических правил к живым потребностям и навыкам современной разговорной речи, их «обновление». Например:
Изменение есть, когда часть речи вместо иной полагается: таково было житие ему, вместо такое. Клеветать есть вещь вредная, вместо клевета. Сюда принадлежит употребление бездушных вещей за животные: языка ведут (оговорщика), посмотри на болвана, на осла (на глупца); какой это куль, мешок, увалень и пр. Также претворяя глаголы в причастия: всяк просяй приемлет, а ищай обретает,
вместо: всяк который просит, приемлет, а который ищет, обретает; побыв на рынке сходи в Невское; вместо когда побываешь на рынке, то оттуда сходи в Невский монастырь.
Предложение[править]
Своеобразие синтаксиса Курганова состоит в том, что в нём содержится краткое учение «о сложении речей» (предложений), о простом и сложном предложении: «Речь бывает двух родов: простая и сложная. Простая — та, в которой находится один глагол и одно именительное явное или доразумеваемое слово; как: земля тучнеет, море волнуется». Тем самым лингвист связывает понятие предложения с наличием глагола как его структурного ядра, как «минимума» предложения. «Сложная есть, две простые речи совокупленные вместе чрез союз или чрез местоимения возносительные и пр. На пр. я пишу, а ты гуляешь; тот негодный человек, который сам подвергается наказанию; каковы бы премудры и велики государи ни были, однако в помощи имеют нужду»[10].
В синтаксисе Курганова обнаруживаются зачатки учения о распространении «простой речи», о «простом сочинении речей»:
Свойства и обстоятельства вещей и деяний умножают наши понятия и названиями их речь распространяют. Сие производится 1) Именами прилагательными просто: темные облака покрыли ясное небо; 2) Причастиями: облака сгущенные влажностью покрыли освещенное солнцем небо; 3) Родительным падежем: темность облаков покрывает ясность неба; 4) Предлоги: облака покрывают небо на востоке; земля тучнеет от росы. А больше все умножаются понятия по правилам риторическим. Сей порядок слов и их полность по вольности наших мыслей иногда обращаем, а иногда сокращаем. На пр. вместо земля тучнеет от росы употребляем: тучнеет от росы земля, или земля тучна от росы, выключая глагол бывает».
У Курганова неясно проявлена также идея второстепенных членов предложения (без употребления этого термина), хотя в основном воспроизводятся мысли Ломоносова:
Сложение слов производит речи полной разум в себе составляющие чрез снесение разных понятий. Понеже вещь имеет прежде свое бытие, а потом деяние, того ради в речи первое место имеет имя, вещь знаменующее; а после глагол изъявляющий ее деяние. На пр. облака покрыли; земля тучнеет. В первом случае требуется для наполнения разума наименование другой вещи на пр. облака покрыли небо. Во вторам довольно одного имени: земля тучнеет, дает довольное разумение.
Отдельно излагается вопрос «о сложном сочинении речи» (о видах сложных предложений), при этом проблема сложного предложения и его типов сливается с проблемой периода. «Соединение нескольких речей полной разум в себе содержащих» осуществляется следующими средствами:
Отсюда рождаются разные периоды: одночленные, двучленные, трочленпые и пр.
- Местоимениями возносительными, кто, который, тот: кто бога не боится, тот людей бояться должен. Нет живой хорошей книги, о которой бы кто худа не говорил.
- Причастиями и деепричастиями: любящим бога все поспешествует во благое. Человек боясь бога людей бояться не должен.
- Союзами: ежели ты бога боишься, то не бойся человека.
- Наречиями и союзами: там то златой век, где все дешевле прочих мест и жизнь здоровая и спокойная. Великое в том есть погрешение, когда пороки законно не наказываются, а добродетели достойно не награждаются: чрез то честные в добродетели слабеют, а злонравные худше бывают.
- Причастиями, наречиями и союзами: Александр великий с сорокью тысячами воинов, напад на Дария имевшего тогда своего войска шесть сот тысяч дважды его разбил, и притом мать, жену и дочерей его полонил.
Примечания[править]
- ↑ Кульман Н. Из истории русской грамматики. Петроград: Сенат. тип., 1917. С. 47—48.
- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 35
- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 42
- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 46—47
- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 37
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 37—44
- ↑ Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. VII (§ 483), стр. 557.
- ↑ Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 564.
- ↑ Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 564—565.
- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 44
Литература[править]
Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Вклад Н. Г. Курганова в синтаксис русского языка», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |