Вопросы синтаксиса в трудах М. В. Ломоносова

Вопросы синтаксиса были изложены М. В. Ломоносовым в «Российской грамматике» и «Риторике».
«Российская грамматика»[править]
«Российская грамматика» Ломоносова была почти до самого начала XIX века активным руководством, откуда интеллигенция черпала познания о грамматическом строе русского языка, о его звуковых и морфологических нормах, о правилах составления конструкций и их употребления[1]. В. Виноградов отмечает, что при этом в отечественном «дореволюционном языкознании вопросы синтаксиса в трудах Ломоносова по грамматике и риторике почти не были предметом внимательного изучения», синтаксическая теория Ломоносова «явно недооценивалась». Ломоносовское учение о сочинении частей слова очевидным образом зависело от предшествующей синтаксической традиции — славяно-русской, античной, средневековой латинской и новой западноевропейской[2]. Связь некоторых положений ломоносовского синтаксиса (термин «синтаксис» он не употреблял) с правилами грамматики М. Смотрицкого широко отмечалась М. И. Сухомлиновым и Н. К. Грунским. Однако элементы и правила, унаследованные от традиции, Ломоносов не только систематизировал и освобождал от архаических примесей, но и включал в широкий круг самостоятельных синтаксических наблюдений и обобщений. Поэтому синтаксис Ломоносова не только составил целую эпоху в истории русской грамматической мысли, но отчасти не потерял своего значения и в XX веке[3].
Учение о «сочинении частей слова»[править]
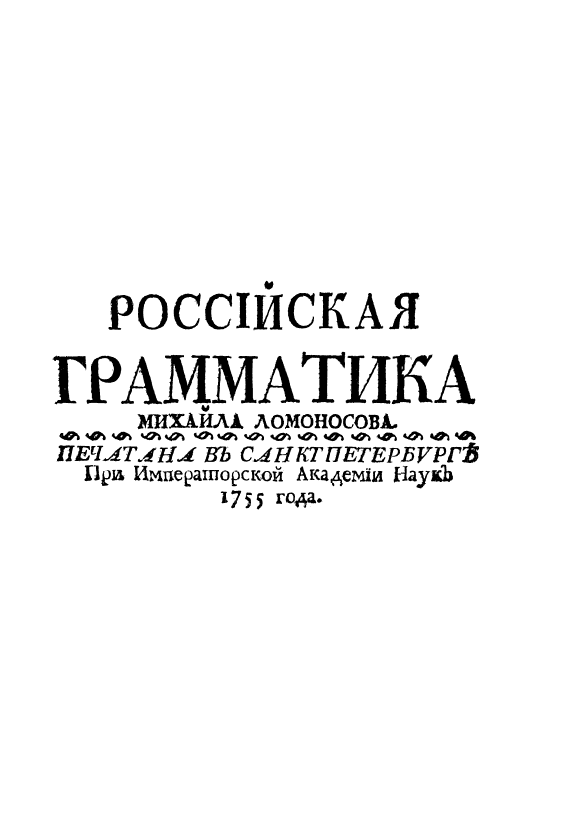
У Ломоносова учение о предложении и его членах было оторвано от учения о «сочинении частей слова» (учения о формах и типах словосочетаний), хотя при характеристике форм словосочетаний учёный иногда привлекал и предложения (предикативные словосочетания), а также способы образования составных или сложных форм сказуемого. Ломоносовское «сочинение частей слова» сводится к правилам сочетания слов в предложении по принципу согласования и управления. Он пишет: «Существительные сопряжённые, к одной вещи надлежащие, падежём согласные, родом и числом различествовать могут…». Сначала излагаются общие принципы сочетания слов или образования словосочетаний как двусловных, так и многословных. Например: «Когда два имена существительные, к разным вещам принадлежащие, полагаются в слове без союза, одно должно быть в родительном падеже: множество народа; туча стрел; столп церкви; сын отечества. Когда же значит владение, существительное требует прилагательного: дом отца моего; стихи древнего Гомера; или другого существительного: стихи Гомера стихотворца…»[4].
Ломоносов различает «сочинение имён», «сочинение глаголов», «сочинение вспомогательных частей слова» и «сочинение частей слова по разным обстоятельствам». В кругу словосочетаний Ломоносовым рассматриваются и случаи согласования сказуемого с подлежащим. В соответствии с грамматической традицией и живой практикой употребления Ломоносов выделяет несколько видов именных словосочетаний, типичных для русского языка. При описании словосочетания определяется его смысловое содержание, а также лексическое значение составных частей (например: «Существительные до похвалы или похудения надлежащие требуют родительного падежа: человек превосходного остроумия; младенец слабого сложения»), хотя тот же принцип взаимодействия лексических и грамматических значений был выдвинут ещё Смотрицким. Устанавливая закономерности сочетания слов, Ломоносов приходит к выводу о наличии разных степеней грамматической обобщённости и абстрагированности форм словосочетания. В связи с этим в отдельных случаях он гораздо более выразительно подчёркивает тесную зависимость синтаксических связей от лексических значений сочетающихся слов («Прилагательных имён падежи, с коими они сочиняются, общим правилам не подвержены, ради разных их знаменований, что должно знать из употребления»)[4].
Ломоносов стремился к абстрактно-грамматической характеристике правил согласования и управления слов. Законы согласования являются более обобщёнными и свободными от лексических ограничений, чем правила управления. Укрепившийся в грамматической традиции XVII — начала XVIII века приём конкретно-указательного связывания приёмов управления с отдельными словами или небольшими группами слов не удовлетворял Ломоносова. Поэтому учёный отказывается от ввода узко-лексикографических или узко-лексикологических правил управления, чтобы преодолеть такое смешение синтаксиса с семантическими группировками лексики[4].
В «Российской грамматике» учёный ограничился общими указаниями на зависимость характера управления у разных групп имён прилагательных от различия их «знаменований» (то же в отношении глаголов: «Кроме винительного падежа, которого обыкновенно действительные глаголы требуют, принимают они другие падежи с предлогами и бес предлогов…»). При этом Ломоносов стремится установить общие закономерности синтаксических сцеплений, связанные с существом тех или иных грамматических категорий, но свободные от частных лексико-семантических ограничений[4].
Немногие синтаксические правила, которые устанавливают зависимость приёмов синтаксической сочетаемости отдельных групп слов от различия их лексических значений, принимаются и утверждаются Ломоносовым. Это относится к тем случаям, когда можно было достигнуть семантической и обобщённой характеристики всего соответствующего разряда слов («Глаголы действительные, знаменующие желание, искание и сим подобные, по большей части родительный падеж принимают…»)[4].
Ломоносов не отрицает важности принципа связи форм синтаксической сочетаемости у тех или иных групп и серий слов с их принадлежностью к одной лексико-семантической системе, с единством или близостью их смыслового содержания. Он стремится к обобщению правила. Простой и притом неполный перечень конкретно-индивидуальных значений слов, связанных однородностью синтаксического управления, в представлении учёного противоречил существу грамматических абстракций, внутренней природе правил и законов синтаксического построения. Разрешение проблемы соотношения и взаимодействия лексики и синтаксиса потребовало усилий со стороны русских грамматистов[4].
Поскольку в круг словосочетаний «Российская грамматика» вовлекает и разные виды предложений, «предикативных» конструкций, среди различных типов глагольных словосочетаний Ломоносовым описаны действительные и страдательные обороты, наиболее употребительные формы предложно-глагольных конструкций, сочетания безличных глаголов с инфинитивом, другие виды конструкций с инфинитивом, или инфинитивных конструкций, деепричастные обороты и др. Необходимо отметить, что к учению о «сочинении глаголов» Ломоносов относит также некоторые типы одночленных предложений — безличных и инфинитивных, поскольку в них нет высказывания о бытии или деянии вещи, то есть нет существенных признаков «речи» или предложения в понимании учёного[4].
Ломоносов пишет о конструкциях, механически заимствованных из западноевропейских языков: «Весьма погрешают те, которые по свойству чужих языков деепричастия от глаголов личных лицами разделяют. Ибо деепричастие должно в лице согласоваться с главным глаголом личным, на котором всей речи состоит сила… Но многие в противность сему пишут: идучи я в школу, встретился со мною приятель…; что весьма неправильно, и досадно слуху, чувствующему правое Российское сочинение»[4].
Предложение[править]
Ломоносов даёт следующие истолкование «предложения» («речи», по терминологии Ломоносова), он отмечает: «Вещь иметь должна прежде своё бытие, потом деяния» («Российская грамматика»). Так выводится наиболее распространённый в русском языке тип простого глагольного предложения. Ломоносов подчёркивает, что при переходном глаголе прямой объект («прямое дополнение») также принадлежит к главным частям (членам) предложения (например, «Тучи покрыли небо»). Все остальные члены предложения служат для распространения состава предложения: «Вещей и деяний свойства и обстоятельства умножают наши понятия и названиями их речь распространяют». «Сей порядок речений и их полность хотя с чином натуры сходствуют; однако вольность человеческих мыслей превращает порядок оных и выключает из речи то, чему бы по натype быть должно было», — пишет Аристотель. Поэтому возможны изменения в порядке слов[5].
Ломоносов рассматривает предложение как выражение суждения (по терминологии той эпохи — «рассуждения»). «Сложение знаменательных частей слова, или речений производит речи, полной разум в себе составляющие через снесение разных понятий», — пишет учёный. Ломоносов, следовательно, к законченности мысли и грамматически оформленной связи слов как признакам предложения присоединяет ещё один, самый существенный: «снесение» (сопоставление, объединение) различных понятий в акте предикации[5].
Кроме простого «сочинения речений» (простого предложения), Ломоносов выделяет две синтаксические категории: «сочинение сложное» (сложное предложение) и период (в сфере стилистики). «Сложное сочинение» — это «соединение нескольких речей полной разум в себе содержащих» Образование сложного предложения, согласно Ломоносову, осуществляется с помощью относительных (или «возносительных») местоимений, деепричастных оборотов и союзов. «Отсюду рождаются разные периоды, одночленные, двучленные, тричленные, четыречленные», — отмечает учёный. При этом, согласно Ломоносову, теория предложения и периода «надлежит до Реторики». «Пространное оных изъяснение и толкование» выведено за пределы грамматики. Ломоносовская грамматика, кроме фонетики и учения о частях речи, содержит в себе лишь синтаксис словосочетания[5].
«Риторика»[править]
В «Риторике» Ломоносов излагает теорию предложения (в «Российской грамматике» «предложение» именуется «речью»). Теория предложения в «Риторике» тесно связана с логической теорией суждения. «Сложенные идеи состоят из двух или многих простых идей между собою сопряжённых и совершенный разум составляющих… Ежели сложенная идея состоит из многих простых, тогда нередко сопрягаются иные из них союзами и предлогами, наприклад: богатство и честь суть побуждения к трудам. Таким образом сложенные идеи пологически называются рассуждениями, а когда словесно или письменно сообщаются, тогда их предложениями называют», — пишет Ломоносов[6]. В предложении учёный выделяет две основные части: подлежащее и сказуемое. Подлежащее и сказуемое могут выражаться отдельными словами, хотя могут состоять и из группы слов. «Простые идеи к терминам темы приисканные [все слова, которые распространяют тему, выраженную в форме простого предложения] должно сопрягать одну с другою, как подлежащее и сказуемое, и так составлять предложения утвердительные или отрицательные, общие или особенные», — пишет Ломоносов. Пример предложения, распадающегося на составы подлежащего и сказуемого: Злобный человек | явно или тайно вредить желает[7].
Ломоносов описывает синтаксические способы образования составов подлежащего и сказуемого и их соединения в предложении:
Простые идеи подлежащего и сказуемого соединяются в разуме общем или особенном, утвердительном или отрицательном, 1) чрез взаимное действие и страдание, например: «весенние ясные дни отзывают неусыпного человека от трудов», 2) чрез разные падежи, которыми существительные имена по грамматическим правилам сложены бывают: «любящий похвалу не боится лютости неприятельских мечей», 3) чрез пристойные предлоги: «холод от падающая в ночь росы, а пот от дневного зноя трудолюбивые равно сносят», 4) чрез пременение частей слова… [через словопроизводство, ср. «дневный» от «день»], 5) чрез союзы соединения и разделения: «поощренного надеждою ни сияющее во дни солнце, ни в нощи луна и звёзды праздна не видят», 6) чрез союзы противительные: «старые люди не себе, но детям своим дерева насаждают»; 7) чрез союзы недоуметельные: «злобный человек явно или тайно вредить желает», 8) чрез союзы выключительные: ласкатели кроме вреда ничего не приносят.
В «Риторике» Ломоносов касается вопроса о синтаксической синонимии. В «Кратком руководстве к риторике» (1744) учёный пишет:
Слова переменены могут быть 1) Через преложение глагола в имя существительно, н. п. «леность вредна» вместо «лениться вредно». 2) Чрез переменение имени в глагол, н. п. «Я вижу что спорят», вместо «я вижу спор». 3) Когда прилагательное имя в существительное переложено будет, н. п. «Ясность неба», вместо «ясное небо». 4) Через переменение глагола в наречие, н. п. «мне стыдно», вместо «я стыжусь». 5) Имени в наречие, н. п. вместо «сейчас» — «теперь». 6) Действительный глагол на страдательной, н. п. «трава от ветра колеблется», вместо «ветер траву колеблет». 7) Причастие на глагол, н. п. «шум слышен», вместо «шум слышат»[8].
Период[править]
Учение о предложении у Ломоносова сливается с учением о периоде (категория стилистическая!). Периодом учёный называет не только сочетание или сцепление предложений, но также одно предложение, «составленное сопряжением простых идей» (например, Доброе начало есть половина всего дела). Показательна такая формула, выдвигаемая Ломоносовым: «Предложения логические в рассуждении совершенного разума суть то же, что у риторов периоды»[9]. В зависимости от количества «логических предложений», объединяемых в периоде, последние бывают одночленные, двучленные, трёхчленные, четырёхчленные и т. п. Одночленные периоды, которые состоят из одного «логического предложения», могут иметь: одно подлежащее и одно сказуемое; много подлежащих и одно сказуемое; одно подлежащее и много сказуемых (например, Мы учились в одном доме, в поле были товарищи, потом свойством соединились и всегда верную дружбу между собою имели); много подлежащих и сказуемых (например, Роскошь и праздность как два сосца всех пороков, вливают под видом сладости бедственную язву в душу и тело, наносят несносные оскорбления, бедность и смертоносные болезни). Семантико-синтаксическое строение групп подлежащего и сказуемого, их объём, формы их связи, согласно учению Ломоносова, определяют различие в строе и стиле периодов. В данном случае можно говорить о преобладании логической точки зрения над синтаксической[10].
Уже врата отверзло лето.
Натура ставит общий пир.
Земля и сердце в нас нагрето.
Колеблет ветви тих зефир…
(М. Ломоносов.)
В зависимости от объёма членов периода, также от объёма групп подлежащего и сказуемого в отдельных членах периода Ломоносов различает три типа периодов: круглые и умеренные; зыблющиеся и отрывные. В периодах круглых и умеренных «их члены, также подлежащие и сказуемые величиною немного разнятся»[11]. Зыблющиимися называют такие периоды, в которых «части, то есть члены или в членах подлежащие и сказуемые очень неравны». Этого рода периоды «возрастают иногда очень велики». «Напротив того, в некоторых случаях, или и всегда, по разному сродству и сложению авторов, речь состоит из весьма коротких и по большей части одночленных периодов, в которые могут быть переменены долгие чрез отъятие союзов. Такие периоды называются отрывными»[12]. При оценке выразительности сложных периодов Ломоносов рекомендует обращать больше внимание на мысль, на её ход, на содержательность её развития, чем на внешнюю эффектность формы. Он отрицает формализм заранее данных внешних схем построения сложных предложений при помощи союзов и их симметрического расположения[10].
Ломоносов высказывает различные соображения «о расположении и союзе», то есть о способах соединения составных частей периодов. Согласно Ломоносову, «располагаются члены и части периодов, по натуре, по наращению, по приложению и по союзам». Расположение по натуре состоит в соответствии синтаксических частей периода реальному развитию событий: «Что прежде других по месту, по времени и по достоинству, то и в периоде полагается прежде». По наращению «всегда важнейшие идеи следуют тем, которые не так важны», порядок определяется идейной важностью, смысловым весом частей или членов периода. Приложение состоит в распространении предложения с помощью прилагательных и причастных конструкций, деепричастных оборотов, относительных предложений и имен с предлогами. В заключение «Риторики» Ломоносов описывает способы употребления союзов в разных видах построения периодов[10].
Ломоносовский период в истории синтаксиса[править]
Период с середины XVIII до 20—30-х годов XIX века (до появления грамматики А. X. Востокова и грамматических руководств Н. И. Греча) называют ломоносовским. В предисловии к «Российской грамматике, сочиненной Императорской Российской Академиею» (1802) встречается прямая ссылка на М. В. Ломоносова. Влияние трудов «Российской грамматики» и «Риторики» Ломоносова лежит на всех синтаксических трудах, которые относятся к этому периоду. Наиболее интересные, богатые новым материалом и новыми мыслями синтаксические работы в этот период связаны с именами А. А. Барсова, Ив. Орнатовского, а также Н. Курганова и Н. М. Кошанского[13].
Вникая в суть ломоносовского учения о «сочинении частей слова», об образовании предложений и периодов, можно наметить проблемы синтаксиса, которые были поставлены учёным перед русскими лингвистами и решение которых завещано им своим ближайшим ученикам и последователям в области русской грамматики[13]:
- Необходимость точнее определить границы и объём синтаксической системы. Решение данного вопроса в то время во многом зависело от понимания взаимоотношений и взаимодействий грамматики и риторики. Учение о предложении и периоде, составляя основу риторики, оказывалось вне грамматического исследования (оно лишь краем задевало грамматику). Например, в «Российской грамматике» сообщались лишь самые общие сведения о предложении как выражении логического суждения и об его основных частях. Изложение основ теории суждения и детальный анализ предложения и типов периодов составляли предмет «Риторики». Как следствие, грамматическое учение о «сочинении слов» отрывалось от теории предложения. Тем самым перед учёными возникала дилемма: оставить теорию предложения в составе риторики и тем самым свести весь синтаксис к правилам сочетания частей речи (к теории словосочетания) либо включить в синтаксис и учение о предложении, ограничив круг задач риторики теорией поэтической речи и вопросами стилистики. В то же время при дальнейшей чисто грамматической переработке учение о предложении могло подвергнуться значительным ограничениям и упрощениям, могло приобрести абстрактный и схематический характер. Безусловно, многое зависело от сочетания теории с практикой, от углублённого изучения живых процессов грамматического развития языка, особенно живой народной речи, от общих философских основ лингвистического учения.
- Отрыв учения о «сочинении частей речи» от теории предложения должен был сопровождаться разрывом между понятиями «частей речи» и «частей или членов предложения». При этом в трудах Ломоносова этого разрыва в полной мере не наблюдалось. Учение о «сопряжении идей» в предложении, о распространении «темы», или простого предложения, разными «терминами», то есть словами, которые выражают свойства и обстоятельства, было тесно связано у учёного с теорией частей речи. Но данная связь выступала больше при изложении риторического учения о предложении и периоде, чем в области самой грамматики. В грамматике изложение способов «сочинения», разных частей речи в значительной своей части свободно обходилось без всяких ссылок на предложение и его члены, хотя вбирало в себя разные типы, предложений (например, инфинитивные). Нужно отметить, что в учении о сочинении слов рассматривались не функции и значения словосочетаний в разных видах предложений, а лишь синтаксические свойства самих частей или элементов речи (включая предлоги, союзы и междометия) .
- Изложение способов «сочинения» слов опиралось на теорию частей речи, в связи с чем оно состояло прежде всего в описании синтаксического употребления и синтаксических связей разных классов слов — как знаменательных, так и служебных. Эти синтаксические связи разных частей речи рассматривались лишь в исключительных случаях на фоне речевого целого или в структуре предложения. Ясно также, что анализ видов и форм этих связей в системе разных частей речи не был объединён общей задачей и общим понятием, напр. понятием словосочетания. Это было описание конкретных способов сочетаемости слов в языке, способов синтаксического распространения разных частей речи, причём конкретными иллюстрациями служили как словосочетания, так и сочетания слов в форме предложения, а также сочетания знаменательных слов со служебными. Как правило, это описание не приводило к пониманию грамматических единств, которые возникали в результате указанных сочетаний. Тем самым само учение о «сочетании» частей речи, которое лежало в основе русского синтаксиса до 1820—1830-х годов, нуждалось в преобразовании. Такое преобразование могло состоять или в сближении учения о частях речи с учением о предложении и его членах или в создании теории словосочетаний как своеобразных синтаксических единств.
- Ломоносовым была воспринята вполне мысль о разных степенях зависимости синтаксических связей слов от группировки слов по семантическим разрядам или системам. Но сам учёный собрал слишком мало материала, чтобы сгруппировать слова в пределах разных частей речи по общим семантическим разрядам и положить эту группировку в основу анализа синтаксических связей. Например, говоря о разнообразии и непостоянстве сочетаний прилагательных с зависимыми от них падежными формами существительных (например, силён в слове, в споре и т. п.), Ломоносов пишет: «Прилагательных имён падежи, с коими они сочиняются, общим правилам неподвержены, ради разных их знаменований, что должно знать из употребления». Проблема принципов изучения взаимодействия лексических значений и синтаксических связей, а также принципов группировки соответствующих типов словосочетаний нуждался в теоретическом обосновании.
- Учение Ломоносова о предложении и его главных членах носило логический характер и не исчерпывало вопросов, которые относятся к строю предложения, к различиям типов предложений, к составу предложений и к приёмам выражения синтаксических отношений между словами в предложении.
Эти вопросы, которые выдвинул Ломоносов, в последующей традиции не всегда решались и разрабатывались в том направлении, какое было указано учёным. При этом русский синтаксис не пошёл сразу по ломоносовскому направлению. Многие из синтаксических проблем, которые затрагивал Ломоносов, лишь позднее получают полное и всестороннее освещение. После появления русских грамматик Востокова и Греча стало понятно, что «большая часть правил Ломоносова осталась в нашей грамматике»[14], что в отношении точности грамматического описания родной речи «Грамматика Ломоносова не только не утратила своего учёного значения, но и до сих пор по частям передаётся в обучении новым поколениям по позднейшим руководствам, для которых выдержки из этой книги составляют лучшее украшение»[15].
Примечания[править]
- ↑ Блок Г. П., В. Н. Макеева. Первые издания «Российской грамматики» Ломоносова // Ломоносовский сборник. М., 1951. С. 356.
- ↑ Ср. Будилович А. С. Ломоносов как натуралист и филолог. СПб., 1869.
- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 14—17
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 18—25
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 14—16
- ↑ См. Соч. М. В. Ломоносова с объяснительными примечаниями акад. М. И. Сухомлинова, т. IV. 1898, Примечания, стр. 111.
- ↑ Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 26
- ↑ Соч. М. В. Ломоносова, т. III, стр. 52—53.
- ↑ Соч. М. В. Ломоносова, т. III, стр. 114.
- ↑ 10,0 10,1 10,2 Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 27—31
- ↑ Соч. М. В. Ломоносова, т. III, стр. 110.
- ↑ Соч. М. В. Ломоносова, т. III, стр. 110—112.
- ↑ 13,0 13,1 Из истории изучения русского синтаксиса, 1958, с. 31—35
- ↑ Митрополит Евгении (Болховитинов). Словарь русских светских писателей. Т. 11. 1845. С. 22—23.
- ↑ Ломоносов как грамматик // Празднование столетней годовщины Ломоносова. М., 1865. С. 71—74.
Литература[править]
Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Вопросы синтаксиса в трудах М. В. Ломоносова», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |