| Идентификация древнеегипетских знаков |
|---|
Идентификация древнеегипетских знаков — первый шаг в расшифровке письма Древнего Египта.
Был сделан в начале XIX века благодаря работам нескольких европейских учёных[1], в частности Жана-Франсуа Шампольона и Томаса Юнга[2][3].
Розеттский камень[править]
→ Розеттский камень

Реконструкция стелы
Розеттского камня в том виде, в каком она могла быть изначально, с сохранением всех трёх регистров
Когда французские войска под командованием Наполеона Бонапарта вторглись в Египет в 1798 году, Бонапарт взял с собой комиссию учёных и исследователей, известных как саванты (франц. savants), для изучения этой страны и её древних памятников[4]. В июле 1799 года, когда французские солдаты восстанавливали мамлюкский форт возле города Розетта, который они назвали Форт Жюльен, лейтенант Пьер-Франсуа Бушар заметил, что один из камней из разрушенной стены форта был покрыт письменами. Это была древнеегипетская стела, разделённая на три регистра текста, с отбитым правым нижним углом и большей частью верхнего регистра. Камень был исписан тремя шрифтами: иероглифами в верхнем регистре, греческим в нижнем и демотическим в среднем[5][6]. Текст представлял собой декрет Птолемея V, изданный в 197 году до н. э. и даровавший льготы египетским жрецам. В конце текста содержался призыв начертать копии указа «священным, родным и греческим шрифтом» и установить их в главных храмах Египта[7]. Прочитав этот отрывок в греческой надписи, французы поняли, что камень представляет собой параллельный текст, который позволяет расшифровать египетский текст на основе его греческого перевода[8]. Саванты охотно искали другие фрагменты стелы, а также другие тексты на греческом и египетском языках. Больше никаких фрагментов камня найдено не было, а единственные двуязычные тексты, обнаруженные савантами, были в значительной степени неразборчивы и бесполезны для расшифровки[6][9].
Саванты добились определённых успехов в работе с самим камнем. Жан-Жозеф Марсель заявил, что средний шрифт — это «скоропись древнеегипетского языка», идентичная тем, которые он видел на свитках папируса. Он и Луи Реми Райг начали сравнивать текст этого регистра с греческим, решив, что средний регистр будет более полезен, чем иероглифический текст, большая часть которого отсутствовала. Они догадались о положении имён собственных в среднем регистре, основываясь на положении этих имён в греческом тексте, и им удалось определить p и t в имени Птолемея, но дальше они не продвинулись[10].
Первые копии надписей на камне были отправлены во Францию в 1800 году. В 1801 году французская армия в Египте была осаждена британскими и османскими войсками и капитулировала в результате капитуляции Александрии. По её условиям Розеттский камень перешёл к англичанам. По прибытии камня в Британию Лондонское общество древностей сделало гравюры с его текстом и разослало их в научные учреждения по всей Европе[11].
Сообщения об экспедиции Наполеона вызвали в Европе манию к Древнему Египту. В Египте царил хаос после ухода французов и англичан, но после того как Мухаммед Али установил контроль над страной в 1805 году, европейские коллекционеры начали съезжаться в Египет и увозить многочисленные предметы древности, а художники копировали другие[12]. Никто не знал исторического контекста этих артефактов[13], но они внесли вклад в корпус текстов, которые учёные могли сравнивать при попытке расшифровать системы письма[14].
Де Саси, Окерблад и Юнг[править]
Антуан-Исаак Сильвестр де Саси, выдающийся французский лингвист, расшифровавший персидскую письменность пехлеви в 1787 году, был одним из первых, кто начал работать с камнем. Как Марсель и Райге, он сосредоточился на соотнесении греческого текста с демотическим письмом в среднем регистре. Опираясь на Плутарха, он предположил, что этот шрифт состоит из 25 фонетических знаков[15]. Де Саси искал греческие имена собственные в демотическом тексте и пытался определить фонетические знаки в них, но кроме идентификации имён Птолемея, Александра и Арсинои он не достиг большого прогресса. Он понял, что в демотическом языке гораздо больше 25 знаков и что демотическая надпись, вероятно, не является точным переводом греческой, что усложняет задачу. После публикации своих результатов в 1802 году он прекратил работу над камнем[16].
В том же году де Саси передал копию надписей на камне своему бывшему ученику, Йохану Давиду Окербладу, шведскому дипломату и лингвисту-любителю. Окерблад добился большего успеха, проанализировав те же группы знаков, что и де Саси, но правильно определив большее количество знаков[16]. В своих письмах де Саси Окерблад предложил алфавит из 29 демотических знаков, половина из которых впоследствии была признана правильной, и, основываясь на своём знании коптского языка, определил несколько демотических слов в тексте[17]. Де Саси скептически отнёсся к его результатам, и Окерблад тоже сдался[16]. Несмотря на попытки других учёных, дальнейший прогресс был незначительным, пока более десяти лет спустя к работе не приступил Томас Юнг[18].
Юнг был британским эрудитом, чьи знания охватывали физику, медицину и лингвистику[19]. К тому времени, когда он обратил своё внимание на Египет, он считался одним из самых выдающихся интеллектуалов своего времени[18]. В 1814 году он начал переписываться с де Саси по поводу Розеттского камня и через несколько месяцев сделал то, что он назвал переводами иероглифических и демотических текстов на камне. На самом деле это были попытки разбить тексты на группы знаков, чтобы найти места, где египетский текст с наибольшей вероятностью совпадает с греческим. Этот подход был малоэффективен, поскольку три текста не были точными переводами друг друга[20][21]. Юнг потратил месяцы на копирование других египетских текстов, что позволило ему увидеть в них закономерности, которые другие не заметили[22]. Как и Георг Зоэга, он понял, что иероглифов слишком мало, чтобы каждый из них мог обозначать одно слово, и предположил, что каждое слово состоит из двух или трёх иероглифов[21].
Юнг заметил сходство между иероглифическими и демотическими знаками и пришёл к выводу, что иероглифические знаки эволюционировали в демотические. Если это так, рассуждал Юнг, то демотика не может быть чисто фонетическим письмом, а должна включать идеографические знаки, которые произошли от иероглифов; с этой мыслью он обратился к де Саси в 1815 году[21]. Он надеялся найти фонетические знаки в иероглифическом письме, но ему помешало большое разнообразие фонетических написаний, которые использовались в письменности. Он пришёл к выводу, что фонетических иероглифов не существует — за редким исключением[23]. В своей публикации 1802 года де Саси говорил, что иероглифы могут функционировать фонетически при написании иностранных слов[17]. В 1811 году он предположил, узнав об аналогичной практике в китайском письме[24], что картуш обозначает слово, написанное фонетически — например, имя не египетского правителя, такого как Птолемеи[25].
Юнг применил эти предположения к картушам на Розеттском камне. Некоторые из них были короткими, состоящими из восьми знаков, в то время как другие содержали те же знаки, за которыми следовало множество других. Юнг предположил, что длинные картуши содержали египетскую форму титула, данного Птолемею в греческой надписи: «живущий вечно, возлюбленный [бога] Птаха». Поэтому он сосредоточился на первых восьми знаках, которые должны были соответствовать греческой форме имени, Ptolemaios. Приняв некоторые из фонетических значений, предложенных Окербладом, Юнг сопоставил восемь иероглифов с их демотическими эквивалентами и предположил, что некоторые знаки представляют несколько фонетических значений, в то время как другие обозначают только одно[26]. Затем он попытался применить полученные результаты к картушу Береники, имени птолемеевой царицы, с меньшим успехом, хотя и определил пару иероглифов, обозначающих окончание женского имени[27]. В результате был получен набор из 13 фонетических значений для иероглифических и демотических знаков. Шесть из них были правильными, три — частично правильными, а четыре — неправильными[26].
Анализ Юнгом картуша Птолемея
|
|
| Иероглиф
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочтение Янга
|
P
|
T
|
несущественный
|
LO или OLE
|
MA или M
|
I
|
OSH или OS
|
Юнг подвёл итог своей работе в статье «Египет», анонимно опубликованной в приложении к Encyclopædia Britannica в 1819 году. В ней он дал предположительные переводы 218 слов на демотическом и 200 на иероглифическом языках и правильно соотнёс около 80 иероглифических знаков с демотическими эквивалентами[28]. Как сказал египтолог Фрэнсис Лливелин Гриффит в 1922 г., результаты Юнга были «смешаны со многими ложными выводами, но применяемый метод безошибочно вёл к определённой дешифровке»[29]. Однако Юнга интересовали не столько сами древнеегипетские тексты, сколько системы письма как интеллектуальная загадка, а его многочисленные научные интересы мешали ему сосредоточиться на дешифровке. В последующие несколько лет он почти ничего не добился в этой области[30].
Прорыв Шампольона[править]
Жан-Франсуа Шампольон увлёкся Древним Египтом в подростковом возрасте, примерно между 1803 и 1805 годами, и изучал ближневосточные языки, включая коптский, под руководством де Саси и других[31]. Его брат, Жак Жозеф Шампольон-Фижак, был помощником Бон-Жозефа Дасье, главы Парижской академии надписей и изящной словесности, и на этой должности обеспечивал Жан-Франсуа средствами для продолжения исследований по Египту[32]. К тому времени, когда Юнг работал над иероглифами, Шампольон опубликовал компендиум установленных знаний о Древнем Египте и собрал коптский словарь, но, хотя он много писал на тему нерасшифрованных письменностей, он не продвинулся в их изучении. Уже в 1821 году он считал, что ни одна из письменностей не является фонетической. Однако в последующие годы он резко продвинулся вперёд. Детали того, как он это сделал, не могут быть полностью известны из-за пробелов в свидетельствах и противоречий в современных рассказах[33].
Шампольон поначалу пренебрежительно относился к работе Юнга, видя лишь отрывки из его списка иероглифических и демотических слов. После переезда в Париж из Гренобля в середине 1821 года у него было бы больше возможностей получить полную копию, но неизвестно, сделал ли он это. Примерно в это время он обратил своё внимание на определение фонетических звуков в картушах[34].
Важнейший ключ к разгадке дал обелиск Филе, на котором были нанесены греческая и египетская надписи. Уильям Джон Бэнкес, английский коллекционер древностей, переправил обелиск из Египта в Англию и скопировал его надписи. Эти надписи не были единым двуязычным текстом, как на Розеттском камне, как предполагал Бэнкес, но обе надписи содержали имена «Птолемей» и «Клеопатра», причём иероглифические версии были заключены в картуши[35]. Картуш Птолемея можно было идентифицировать по Розеттскому камню, но Бэнкес мог лишь предположить, основываясь на греческом тексте, что второй представляет собой имя Клеопатры. В его копии текста это прочтение картуша было написано карандашом. Шампольон, увидевший копию в январе 1822 года, принял картуш за картуш Клеопатры, но не указал, как он его определил; он мог сделать это более чем одним способом, учитывая имеющиеся у него доказательства. Банкес возмутился, предположив, что Шампольон воспользовался его предложением, не отметив его заслуг, и отказался от дальнейшей помощи[36].
Шампольон разложил иероглифы в имени Птолемея иначе, чем Юнг, и обнаружил, что три из предполагаемых им фонетических знаков — p, l и o — вписываются в картуш Клеопатры. Четвёртый звук, e, был представлен одним иероглифом в картуше Клеопатры и удвоенной версией того же глифа в картуше Птолемея. Пятый звук, t, казалось, был написан разными знаками в каждом картуше, но Шампольон решил, что эти знаки должны быть омофонами — разными знаками, обозначающими один и тот же звук. Далее он проверил эти буквы в других картушах, определил имена многих греческих и римских правителей Египта и экстраполировал значения ещё большего числа букв[37].
Анализ Шампольоном картуша Птолемея[38]
|
|
| Иероглиф
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочтение Шампольона
|
P
|
T
|
O
|
L
|
M
|
E
|
S
|
Анализ Шампольоном картуша Клеопатры
|
|
| Иероглиф
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочтение Шампольона
|
K
|
L
|
E
|
O
|
P
|
A
|
T
|
R
|
A
|
Feminine ending
|
В июле Шампольон опроверг анализ Жана-Батиста Био текста, окружающего рельеф египетского храма, известного как Дендерский зодиак. При этом он указал, что иероглифы звёзд в этом тексте, по-видимому, указывали на то, что соседние слова обозначали что-то связанное со звёздами, например созвездия. Он назвал использованные таким образом знаки «знаками типа», хотя позже он назовёт их «детерминативами»[39].
Шампольон изложил предложенное им прочтение греко-римских картушей в «Lettre à M. Dacier», которое он закончил 22 сентября 1822 года. Он зачитал его в Академии 27 сентября, среди слушателей был и Юн[40]г. Это письмо часто рассматривается как основополагающий документ египтологии, хотя оно представляло собой лишь скромное достижение по сравнению с работой Юнга[41]. Однако в конце письма было высказано предположение, без уточнений, что фонетические знаки могли использоваться для написания собственных имён с очень раннего периода египетской истории[42]. Как Шампольон пришёл к такому выводу, в основном не зафиксировано в современных источниках. Его собственные записи позволяют предположить, что одним из ключевых моментов был его вывод о том, что Абидосский список царей содержит имя «Рамсес», царское имя, встречающееся в работах Манефон, и что некоторые другие его доказательства были получены из копий надписей в Египте, сделанных Жаном-Николя Гюйо[43].
По словам Эрмины Хартлебен, написавшей в 1906 году самую обширную биографию Шампольона, прорыв произошёл 14 сентября 1822 года, за несколько дней до написания «Письма», когда Шампольон рассматривал копии Гюйо[45]. Один картуш из Абу-Симбела содержал четыре иероглифических знака. Шампольон догадался — или опирался на ту же догадку, что и в статье Юнга в Britannica, — что первый круглый знак обозначает солнце. Коптское слово «солнце» — re. Знак, дважды появлявшийся в конце картуша, означал s в картуше Птолемея. Если имя в картуше начиналось с Re и заканчивалось ss, то оно могло соответствовать слову «Рамсес», а знак в середине означал m.
Дальнейшее подтверждение пришло из Розеттского камня, где знаки m и s появились вместе в точке, соответствующей слову «рождение» в греческом тексте, и из коптского, в котором слово «рождение» было mise. Другой картуш содержал три знака, два из которых были такими же, как в картуше Рамесса. Первый знак, ибис, был известным символом бога Тота. Если два последних знака имеют те же значения, что и в картуше Рамеса, то имя во втором картуше будет Thothmes, соответствующее царскому имени «Тутмос», упоминаемому Манефоном. Это были исконно египетские цари, давно предшествовавшие греческому владычеству в Египте, однако написание их имён было частично фонетическим.
Далее Шампольон обратился к титулу Птолемея, найденному в более длинных картушах Розеттского камня. Шампольон знал коптские слова, которыми можно перевести греческий текст, и мог сказать, что фонетические иероглифы, такие как p и t, подходят к этим словам. Отсюда он мог догадаться о фонетических значениях ещё нескольких знаков. По словам Хартлебена, сделав эти открытия, Шампольон помчался в кабинет своего брата в Академии надписей, бросил на пол коллекцию скопированных надписей, воскликнул "Je tiens mon affaire! " («Я сделал это!») и упал в многодневный обморок[44][46][Note 1].

Иероглифическое и
клинописное написание имени
Ксеркса I на вазе из Келюса, скопированное в
Précis du système hiéroglyphiqueВ течение следующих нескольких месяцев Шампольон применил свой иероглифический алфавит ко многим египетским надписям, определив десятки царских имён и титулов. В этот период Шампольон и востоковед Антуан-Жан де Сен-Мартен исследовали вазу Келюса, на которой был иероглифический картуш, а также текст, написанный персидской клинописью. Сен-Мартен, основываясь на более ранних работах Георга Фридриха Гротефенда, полагал, что на клинописи написано имя Ксеркса I, царя Ахеменидской империи в V веке до н. э., чья территория включала Египет. Шампольон подтвердил, что идентифицируемые знаки в картуше совпадают с именем Ксеркса, укрепив доказательства того, что фонетические иероглифы использовались задолго до греческого владычества в Египте, и поддержав прочтение клинописного текста Сен-Мартеном. Это был важный шаг в расшифровке клинописи[48].
Примерно в это же время Шампольон совершил второе открытие[49]. Хотя он насчитал около 860 иероглифических знаков, лишь немногие из них составляли большую часть любого текста. Он также познакомился с недавним исследованием китайского языка, проведённым Жан-Пьером Абель-Ремюза, которое показало, что даже в китайской письменности широко используются фонетические знаки, а идеографические знаки приходится объединять во множество лигатур, чтобы составить полный словарный запас. Лишь немногие иероглифы казались лигатурами. А Шампольон идентифицировал имя Антиноя, римлянина, не имевшего царского титула, написанное иероглифами без картуша, рядом с иероглифами, которые казались идеографическими. Таким образом, фонетические знаки не ограничивались картушами. Чтобы проверить свои подозрения, Шампольон сравнил иероглифические тексты, которые, по всей видимости, содержали одно и то же наполнение, и отметил расхождения в написании, что указывало на наличие омофонов. Он сравнил полученный список омофонов с таблицей фонетических знаков из своей работы над картушами и обнаружил, что они совпадают[50].
Шампольон сообщил об этих открытиях в Академию надписей в апреле 1823 года. После этого он быстро продвинулся в определении новых знаков и слов[51]. Он пришёл к выводу, что фонетические знаки составляют консонантный алфавит, в котором гласные писались лишь в отдельных случаях[52]. В заключении его выводов, опубликованном в 1824 году под названием Précis du système hiéroglyphique, говорится: «Иероглифическое письмо — это сложная система, письмо одновременно образное, символическое и фонетическое, в одном и том же тексте, в одном и том же предложении и, я могу даже рискнуть сказать, в одном и том же слове»[52].
В «Précis» были определены сотни иероглифических слов, описаны различия между иероглифами и другими письменностями, проанализированы имена собственные и использование картушей, а также описаны некоторые грамматические особенности языка. Шампольон перешёл от дешифровки письменности к переводу языка, лежащего в её основе[53][54].
В «Письме к М. Дасье»/Lettre à M. Dacier упоминается, что Юнг работал над демотикой, и говорится о попытке Юнга расшифровать имя Береники[55], но не говорится ни о том, что Юнг расшифровал имя Птолемея, ни о том, что женское окончание имени, которое также встречается в имени Клеопатры на обелиске Филе, было открытием Юнга[56]. Считая, что эти открытия сделали возможным прогресс Шампольона, Юнг рассчитывал получить большую часть заслуг за то, что в конечном итоге создал Шампольон. В частной переписке вскоре после прочтения «Lettre» Юнг процитировал французскую поговорку, которая означала «Важен первый шаг», хотя он также сказал, что «если [Шампольон] и одолжил английский ключ, то замок был настолько ужасно ржавым, что ни у одной обычной руки не хватило бы сил повернуть его»[57][58].
В 1823 году Юнг опубликовал книгу о своей египетской работе под названием An Account of Some Recent Discoveries in Hieroglyphical Literature and Egyptian Antiquities/«Рассказ о некоторых последних открытиях в иероглифической литературе и египетских древностях» и ответил на замечания Шампольона в подзаголовке: «Включая оригинальный иероглифический алфавит автора, расширенный г-ном Шампольоном». Шампольон гневно ответил: «Я никогда не соглашусь признать какой-либо другой оригинальный алфавит, кроме моего собственного, если речь идёт об иероглифическом алфавите, называемом должным образом»[56]. В следующем году Précis признал работу Юнга, но Шампольон заявил, что пришёл к своим выводам самостоятельно, не видя статьи Юнга в Britannica. С тех пор мнения учёных разделились, был ли Шампольон честен[59]. Юнг продолжал добиваться большего признания, выражая при этом восхищение работой Шампольона и скептическое отношение к некоторым его выводам[60]. Отношения между ними колебались между тёплыми и конфликтными вплоть до смерти Юнга в 1829 году[61][62].
Продолжая работать над иероглифами, совершая ошибки наряду с многочисленными успехами, Шампольон оказался вовлечён в спор с учёными, которые отвергали достоверность его работ. Среди них были Эдм-Франсуа Жомар, ветеран наполеоновской экспедиции, и Юлиус Генрих Клапрот, немецкий востоковед. Некоторые одновременно выступали в поддержку Юнга[63]. Учёным, который дольше всех выступал против дешифровки Шампольона, был Густав Зейфарт[64]. Его оппозиция по отношению к Шампольону вылилась в публичный спор с ним в 1826 году[65], и он продолжал отстаивать свой собственный подход к иероглифам вплоть до своей смерти в 1885 году[64].
По мере того, как сущность иероглифов становилась всё более ясной, противники такого рода отпали, но споры о том, насколько Шампольон был обязан Юнгу, продолжаются. Националистическое соперничество между англичанами и французами обостряет этот вопрос. Египтологи часто не хотят критиковать Шампольона, который считается основателем их дисциплины, и, соответственно, не склонны признавать заслуги Юнга[66]. Египтолог Ричард Паркинсон занимает умеренную позицию: «Даже если допустить, что Шампольон был более знаком с первоначальными работами Юнга, чем он впоследствии утверждал, он остаётся расшифровщиком иероглифического письма… Юнг открыл части алфавита — ключ, но Шампольон открыл целый язык»[67].
- ↑ Самая ранняя версия истории о восклицании Шампольона и его обмороке взята из рассказа, написанного автором по имени Адольф Роша в 1856 году, согласно которому Шампольон работал над заметками для "Письма", когда это произошло. Сын Жака-Жозефа Шампольона-Фижака, Эме, несколько лет спустя повторил рассказ Роша, и Жак-Жозеф, возможно, был источником обоих рассказов. Рассказ Хартлебена - самый ранний, который связывает это событие с копиями надписей Гюйо[47]
- ↑ Как расшифровали египетские иероглифы?. www.shkolazhizni.ru. Проверено 22 января 2025.
- ↑ Панов Максим Вячеславович Решение синода в Мемфисе: перевод // Манускрипт. — 2020. — № 6.
- ↑ С.И. Коссаковский. Доклад об иероглифической системе Шампольона // Палестинский сборник. - 1958. - № 3 (66). - С. 151-170
- ↑ Thompson, 2015a, с. 98–99
- ↑ Solé, Valbelle, с. 2–3
- ↑ 6,0 6,1 Parkinson, 1999, с. 20
- ↑ Parkinson, 1999, с. 29–30
- ↑ Solé, Valbelle, с. 4–5
- ↑ Solé, Valbelle, с. 27–28
- ↑ Solé, Valbelle, с. 9, 24–26
- ↑ Parkinson, 1999, с. 20–22
- ↑ Thompson, 2015a, с. 108, 132–134
- ↑ Robinson, 2012, с. 11
- ↑ Thompson, 2015a, с. 119, 124
- ↑ Pope, 1999, с. 62–63
- ↑ 16,0 16,1 16,2 Solé, Valbelle, с. 47–51
- ↑ 17,0 17,1 Thompson, 2015a, с. 110
- ↑ 18,0 18,1 Thompson, 2015a, с. 111
- ↑ Виноградова Т. В. 2003. 01. 014. Мартиндейл К. Колебания и аналогии: Томас Юнг, гениальный ученый. Martindale C. oscillations and analogies: Thomas young, MD, FRS, genius // Amer. Psychologist. Wash. , 2001. Vol. 56, № 4. P. 342345 // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 8, Науковедение: Реферативный журнал. — 2003. — № 1.
- ↑ Adkins, Adkins, с. 121–122
- ↑ 21,0 21,1 21,2 Pope, 1999, с. 67
- ↑ Robinson, 2006, с. 155–156
- ↑ Iversen, 1993, с. 135, 141
- ↑ Pope, 1999, с. 66
- ↑ Robinson, 2006, с. 153–154
- ↑ 26,0 26,1 Robinson, 2006, с. 159–161
- ↑ Adkins, Adkins, с. 153–154
- ↑ Robinson, 2006, с. 161–162
- ↑ Griffith, 1951, с. 41
- ↑ Ray, 2007, с. 49–51
- ↑ Robinson, 2012, с. 53–54, 61
- ↑ Robinson, 2012, с. 113, 127
- ↑ Thompson, 2015a, с. 113–116
- ↑ Robinson, 2012, с. 122–123, 132–133
- ↑ Parkinson, 1999, с. 33–34
- ↑ Robinson, 2012, с. 133–136
- ↑ Adkins, Adkins, с. 173–175
- ↑ Adkins, Adkins, с. 173
- ↑ Adkins, Adkins, с. 176–177
- ↑ Adkins, Adkins, с. 182, 187
- ↑ Thompson, 2015a, с. 118–119
- ↑ Buchwald, Josefowicz, с. 388
- ↑ Buchwald, Josefowicz, с. 384–386
- ↑ 44,0 44,1 44,2 Adkins, Adkins, с. 180–181
- ↑ Buchwald, Josefowicz, с. 385
- ↑ Robinson, 2012, с. 140–142
- ↑ Buchwald, Josefowicz, с. 372, 385, 509
- ↑ Pope, 1999, с. 72–74, 100–101
- ↑ Robinson, 2012, с. 148–149
- ↑ Pope, 1999, с. 75–78
- ↑ Robinson, 2012, с. 129–130
- ↑ 52,0 52,1 Pope, 1999, с. 78–79
- ↑ Thompson, 2015a, с. 120
- ↑ Adkins, Adkins, с. 208
- ↑ Adkins, Adkins, с. 190–192
- ↑ 56,0 56,1 Robinson, 2006, с. 217–219
- ↑ Ray, 2007, с. 67–69
- ↑ Adkins, Adkins, с. 188–189
- ↑ Robinson, 2012, с. 130–133
- ↑ Ray, 2007, с. 69–71
- ↑ Adkins, Adkins, с. 240–241
- ↑ Robinson, 2012, с. 217–218
- ↑ Thompson, 2015a, с. 121
- ↑ 64,0 64,1 Thompson, 2015b, с. 202
- ↑ Adkins, Adkins, с. 232–234
- ↑ Thompson, 2015a, с. 121–123
- ↑ Parkinson, 1999, с. 40
- The Keys of Egypt: The Obsession to Decipher Egyptian Hieroglyphs. — HarperCollins, 2000. — ISBN 978-0-06-019439-0.
- Allen James P. Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs, Third Edition. — Cambridge University Press, 2014. — ISBN 978-1-107-05364-9.
- Who Was Who in Egyptology, 4th Revised Edition. — Egypt Exploration Society, 2012. — ISBN 978-0-85698-207-1.
- The Riddle of the Rosetta: How an English Polymath and a French Polyglot Discovered the Meaning of Egyptian Hieroglyphs. — Princeton University Press, 2020. — ISBN 978-0-691-20091-0.
- Curran Brian A. The Renaissance Afterlife of Ancient Egypt (1400–1650) // The Wisdom of Egypt: Changing Visions Through the Ages. — UCL Press, 2003. — ISBN 978-1-84472-005-7.
- El-Daly Okasha Egyptology: The Missing Millennium. — UCL Press, 2005. — ISBN 978-1-84472-062-0.
- Griffith, Francis Llewellyn (1951). «The Decipherment of the Hieroglyphs». The Journal of Egyptian Archaeology 37: 38–46. DOI:10.2307/3855155.
- Hamilton Alastair The Copts and the West, 1439–1822: The European Discovery of the Egyptian Church. — Oxford University Press, 2006. — ISBN 978-0-19-928877-9.
- Iversen Erik The Myth of Egypt and Its Hieroglyphs in European Tradition. — Princeton University Press, 1993. — ISBN 978-0-691-02124-9.
- Loprieno Antonio Ancient Egyptian: A Linguistic Introduction. — Cambridge University Press, 1995. — ISBN 978-0-521-44384-5.
- Parkinson Richard Cracking Codes: The Rosetta Stone and Decipherment. — British Museum Press, 1999. — ISBN 978-0-7141-1916-8.
- Pope Maurice The Story of Decipherment, from Egyptian Hieroglyphs to Maya Script, Revised Edition. — Thames & Hudson, 1999. — ISBN 978-0-500-28105-5.
- Ray John D. The Rosetta Stone and the Rebirth of Ancient Egypt. — Harvard University Press, 2007. — ISBN 978-0-674-02493-9.
- Robinson Andrew The Last Man Who Knew Everything: Thomas Young, the Anonymous Polymath Who Proved Newton Wrong, Explained How We See, Cured the Sick, and Deciphered the Rosetta Stone, among Other Feats of Genius. — Pi Press, 2006. — ISBN 978-0-13-134304-7.
- Robinson Andrew Cracking the Egyptian Code: The Revolutionary Life of Jean-François Champollion. — Oxford University Press, 2012. — ISBN 978-0-19-991499-9.
- The Rosetta Stone: The Story of the Decoding of Hieroglyphics. — Four Walls Eight Windows, 2002. — ISBN 978-1-56858-226-9.
- Stephan Tara Writing the Past: Ancient Egypt through the Lens of Medieval Islamic Thought // Arabic Humanities, Islamic Thought: Essays in Honor of Everett K. Rowson. — Brill, 2017. — ISBN 978-90-04-34329-0.
- Stolzenberg Daniel Egyptian Oedipus: Athanasius Kircher and the Secrets of Antiquity. — University of Chicago Press, 2013. — ISBN 978-0-226-92415-1.
- Thompson Jason Wonderful Things: A History of Egyptology, 1. From Antiquity to 1881. — American University in Cairo Press, 2015a. — ISBN 978-977-416-599-3.
- Thompson Jason Wonderful Things: A History of Egyptology, 2. The Golden Age: 1881–1914. — American University in Cairo Press, 2015b. — ISBN 978-977-416-692-1.
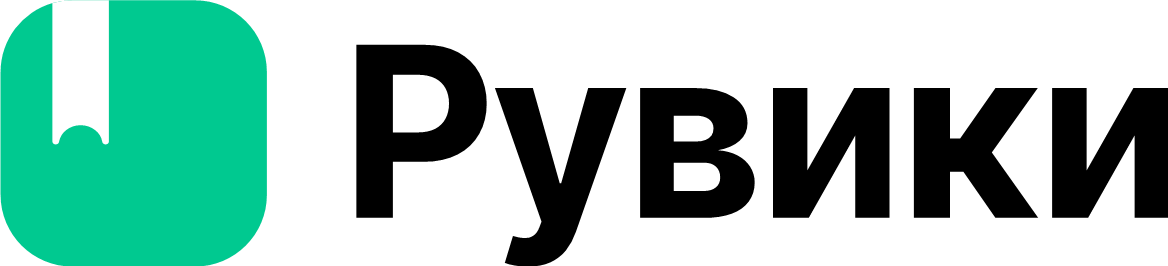 | Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Идентификация древнеегипетских знаков», расположенная по адресу: | — | «https://ru.ruwiki.ru/wiki/Идентификация_древнеегипетских_знаков» |
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |
|---|


